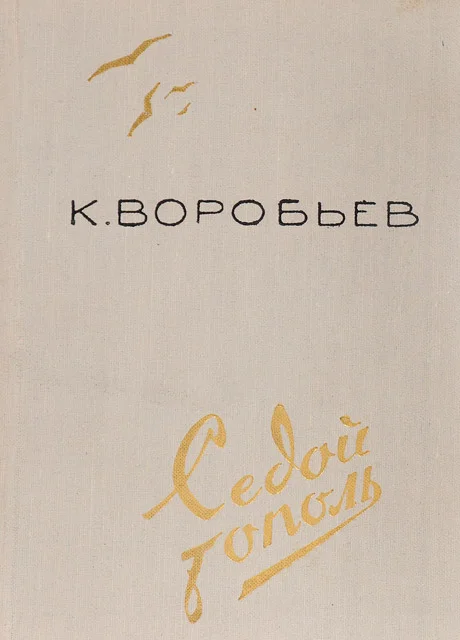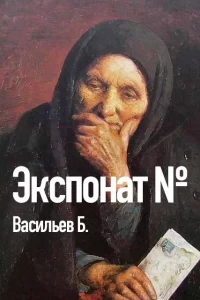Тысяча девятьсот сорок второй год. Весна. Латвийская станция Саласпилс — чистая, скромная и тихая, будто зачарованная. За ее невысокими строениями, на запад, к морю, стелется луг. На нем — первый в том году зной, желтые гусенята и старые задумчивые козы железнодорожников. Это сразу. А дальше шесть тяжких серых бараков, обнесенных пятью рядами колючей проволоки и восьмью сторожевыми вышками. Это лагерь военнопленных «Долина смерти». Кто его назвал так — неизвестно, но люди с воли знают, что осенью немцы привезли туда две тысячи раненых советских командиров,— железнодорожники считали на станции, чтобы знать и запомнить. А теперь пленных осталось пятьсот человек, не больше…
На станции знают — видно же — что посреди лагеря стоит тополь,— огромный, прямой, старый. В тихие дни его раскидистая крона зеленеет светло и прозрачно, а под ветром с моря тополь напрягается, гудит и листва его становится седой, почти белой. От земли и пока достает рука самого высокого человека тополиный ствол лишен коры,— объели пленные. А тополь почему-то не засыхает и листья на нем не свертываются в трубочку, не жухнут.
На станции известно, что по утрам пленным выдается черпак воды на каждого и буханка эрзац-хлеба на двенадцать человек. Днем тот же черпак сизой мути — баланды из костяной муки, а вечером снова вода.
И еще знают на станции, что голод и тоска в лагере — сильнее тифа и тяжелее ран, потому что и в предсмертном бреду пленные не забывают о хлебе и Родине…
Дрожащей сиреневой дымкой весна окутала залагерные дали, а к пленным не прошла,— запуталась в колючих проволочных изгородях зелеными космами травы и огневой россыпью одуванчиков, и в ветреные дни они порошили гулкий ток черного лагерного квадрата теплым белесым пухом. Прихода ветреных дней этих в лагере ждали жадно. Все пятьсот человек, оставшиеся от двух тысяч, верили, что одуваний пух хранит в себе много калорий, если его размочить в воде.
Верил в это и лейтенант Сергей Климов, коротавший свою двадцать первую весну на втором ярусе нар в третьем бараке — самом емком в лагере: осенью барак вместил триста пятьдесят пленных. Теперь в нем оставался шестьдесят один человек, и лежали они на нарах далеко друг от друга — обжились каждый на своем месте.
По утрам лагерный полицейский приносил в барак пять буханок хлеба. Он кидал их на нары, отходил к дверям и оттуда наблюдал дележку. В пяти дюжинах пленных был один лишний. На него не выходило пайки, и все шестьдесят один стремились попасть в первый ряд своей дюжины.
— Гос-спода офицеры…— с бесконечным презрением цедил полицейский и ударом ноги открывал дверь.
В два часа дня тот же полицейский вносил в барак ведро баланды. Тогда все шестьдесят один медлили, чтобы оказаться в очереди последним,— на дне ведра могла оказаться гуща.
— Гос-спода офицеры!..
На голове Сергея Климова пилотка с опущенными полями, закрывшими шею, лоб и уши. Штанины ватных брюк достают только до икр, а пальцы босых ног распираются врозь затвердевшей между ними грязью. В бумажном мешке с жирным черным орлом и надписью «Фельдпост» Климов прокусил три дырки — одну, чтобы просунуть голову, а две для рук. Подвязанная обрывком красного телефонного кабеля с его острого плеча свешивается каска,— в нее он получает баланду. При ходьбе левая нога Климова издает сухой треск, похожий на холостой щелк курка нагана,— неправильно срослась щиколотка. Заросшее нетвердой негустой щетиной лицо покрыто лишаями и струпьями. Волосы его русы и длинны, концы их свисают из-под пилотки на плечи и вьются. От всего себя Климов сохранил только голос — резкий, четкий, прежний. Непонятно, почему охранники до сих пор не прибили Климова,— они ведь особенно ненавидят высоких, крутолобых и сероглазых пленных. Не прибили, видно, потому, что в своей орлатой рубахе Климов развлекал скучавших эсэсовцев унизительным зрелищем своей нелепой наружности.
По ночам в душу Климова всегда входила невероятная мечта: утром кто-то из своих, из русских, но непохожий ни на одного из обитателей лагеря, появится здесь и скажет, что делать и как жить.
Но этот «кто-то» не появлялся, и в тающем теле Климова росла непонятная обида, почти ненависть к себе и ко всем своим собратьям по бараку. Он ненавидел себя за то, что должен погибнуть молча, а умирающих за то, что они жалуются и стонут. Он не раздумывал над источником своего чувства. Оно росло в нем по мере того, как иссякали его силы. Его бесило собственное неумение не только что-то сделать для своего освобождения, но просто что-нибудь для этого придумать.
Однажды вечером Климов прикрикнул на умирающего, чтобы он перестал стонать. Тот мгновенно притих, а сосед Климова, седой старик, приподнялся на локте и прошептал:
— Правильно! Это надо делать молча, раз мы оказались неспособными отвечать за себя, за судьбу родины, за судьбу мира… К черту! Надо хоть умереть по-человечески!..
Тогда Климову показалось, что он открыл сильного друга, который знал название его чувству и испытывал его сам. Из книг же ему было известно, что люди, готовые «по-человечески» умереть, бывают способны на смелые поступки в жизни. Притаив в душе смутную надежду, он уснул, а утром его разбудил крик:
— Что он делает?
В углу нар хрипел и дергался человек. Климов подполз к нему и узнал своего седого соседа,— сидя, тот пытался задушить себя брезентовым пояском. Он долго и яростно сопротивлялся попытке Климова снять с его шеи брезентовый калачик, и Климов дважды ударил его кулаком по лицу.
— Гад старый… помог!
Седоголовый сплюнул на руки Климова пену, спрятал поясок за пазуху и молча отполз на свое место.
Днем Климов снова подошел к нему. Голый, тот сидел под тополем и в рубцах истлевшей гимнастерки бил вшей.
— Что вам? — не поднимая головы, шепотом спросил пленный.
— Товарищ полковник,— сказал Климов,— нас около пятисот человек…
— Уже меньше,— выдохнул полковник.
— Все равно… Но если мы со всех сторон полезем на проволоку, то…
— Нет. Я думал… Идите.
— Почему же нет?
— В одну минуту восемь пулеметов выбрасывают семнадцать тысяч шестьсот пуль… В среднем тридцать четыре пули на каждого… Всего нужно перелезть тридцать метров проволоки, не считая мотков «Бруно». Каждый метр — три ступеньки… В минуту шесть ступенек, значит — пятнадцать минут. Следовательно, пятьсот десять пуль на каждого…
Откинув за спину каску, Климов побрел от тополя, но через несколько шагов остановился, медленно обернулся к полковнику и с горечью, тоской и злобой сказал:
— Дохляк! — Он видел, как побелел рваный рубец раны на впалой груди старика.— Облезлый заяц!.. Орден в гашнике штанов прячешь… Ответа за него боишься, жить хочешь — а как? Как?
Полковник беззвучно шевелил синими полосками губ и все ниже и ниже склонялся головой к своим остро высторченным коленям. С минуту Климов ненавидяще разглядывал его желтую спину и вдруг качнулся вбок и пошел от тополя к бараку, как по канату через пропасть: расставив руки и приседая. Перед его глазами со звоном плыл и дрожал густой багровый сумрак, и Климов знал, что если он упадет, то наступит долгая сверлящая боль в затылке и обморок.
В тот вечер Климов впервые не осилил подъем на второй ярус нар и впервые за время плена заплакал. С этой минуты он считался «доходягой» и оставался на первом ярусе, где лежали те, кому до смерти были считанные часы.
А по ночам доходяги подползали к станинам нар, обвивали их иссохшими плетями рук и пытались влезть на второй ярус. Может, гнала их туда боль в теле. А может, страх в сердце: на второй ярус смерть влезала не так скоро — лишь через несколько суток, тогда как на первый она являлась за кем-нибудь на рассвете каждого утра…
Климов забился в угол на первом ярусе и затих. Он ждал рассвета, он вслушивался в свое тело,— на нем вспыхивали и мгновенно гасли трепетные движения мышц и в местах этих коротких судорог тело пятнилось холодом, будто от прикосновения ледяшек. «Это крылья… Они у нее как у летучей мыши»,— подумал Климов, страшась назвать смерть по имени. До ближайшей станины нар было далеко — четыре переворота с бока на спину, потом на живот и снова на бок. Он трижды сорвался и упал, и каждый раз, независимо от его волевых усилий, руки сами обхватывали голову перед ударом о пол.
И вот на полу к нему и явился тот «кто-то», кого он все время ждал для своего освобождения, и этот «кто-то» был он сам, Климов. Все было настолько внезапным, простым и осуществимым, что радость Климова перешла в испуг — плен его кончался через несколько часов, на рассвете, и надо было лишь не сойти с ума от этого!
Он влез на свое место, вытянулся, уложив ступни ног так, как стоят они у мертвых — деревянно-прямо, торчком. Не у всякого доходяги остаются полуоткрытыми веки, многие перед концом крепко зажмуриваются, а кончик носа у Климова уже давно не по-живому был острым и раздвоенным. Оставалось дыхание, но Климов попробовал надолго притаить его — и смог!
Вот и все, что было нужно сделать давным-давно и оказаться на воле и, может быть, уже в бою! Утром в барак придут «крючники» — похоронная команда из пленных. Веревками с железным якорем на конце они зацепят мертвяка за ногу, сдернут его с нар и поволокут из барака во двор лагеря, к повозке. Туда его закинут с ходу и утрамбуют с другими мертвяками. В повозку впрягутся «крючники», сзади пойдут два конвоира с винтовками, а за лагерем, в желтом буруне, трупы сбросят в яму и присыпят песком — всего лишь на одну пядь, не больше. В братской могиле надо прожить день до вечера,— выпростать руку на волю, прижать к плечу рот и дышать…
Секунды рассвета казались Климову столетиями. С ночными потемками исчезала бездонная глухота барака, и он становился гулким и пусто-сторожким. Прямо на Климова в разбитое окно текла утренняя прохлада, и от этого ощутимей был запах кислой прели шинелей, прогорклой крысоедины и противно-сладковатая вонь чьих-то незаживших ран.
На втором ярусе нар кто-то громким сухим шепотом выругался в бога, а кто-то крепко зажал зубами стон, но он выбился наружу — длинный, прямой и, как струна, тонкий.
Климов лежал недвижный, и как только раздался ржавый скрип дверей, перестал дышать. Нелегкими шагами «крючники» прошли мимо него в глубь барака, и кто-то из них сказал: «В мешке готов». У Климова в горле быстро рос тошнотворный ком удушья, а высоко в груди, под самой шеей, гулко и редко толкалось сердце. Оно сразу опало и забилось ровнее, как только он украл для него глоток воздуха, и снова больно подскочило вверх, когда он замер, услыхав нарастающий скрежет каблуков по цементному полу барака.
— Цепляй.
Тот, кому предстояло сделать это, неторопливо присел на край нар у ног Климова и начал долго простуженно чихать, голодно сглатывая слюну. «Сейчас у меня разорвется грудь»,— подумал Климов, и тогда же крючок пронизал на нем штанину выше левого колена.
— Волоки.
Падая с нар, Климов изо всех сил прижал руки к бокам, зажав в кулаки ладони, но удар получился мягким, а руки на лету привычно кинулись к голове и успели: голова легла на локти.
— Он жив,— сказал над Климовым «крючник» и принялся чихать снова, а второй, старший, видно, обозленно выкрикнул:
— Да волоки ты, ну тебя с ним к черту! Не дойдет дорогой — там прикончат…
— Собака!— не сразу и потерянно отозвался чихавший.— Как будто тебя самого не сволокут туда… шакал с помойки! Давай положим на место. Бери за ноги!..
На нары Климов лез сам, а минут через двадцать к нему подполз знакомый капитан, такой же, как и он, доходяга с первого яруса. Глядя в сумрак угла поверх глаз Климова, он сказал прерывисто, будто чему-то радуясь:
— Разве ты не знаешь, что «их» стреляют там… Перед тем, как зарыть?
— Мертвых? — спросил Климов.— Зачем?
— Не ты первый захотел воскреснуть… Кто-то бежал уже так из шестого… Попался и выдал!
— Сволочь! — опустошенно сказал Климов.— Сволочь!..
Расставив колени и локти, капитан пополз от Климова, волоча тело по нарам, но вдруг качнулся в сторону, проделал круглый поворот и вернулся. Он не рассчитал расстояния, когда выкинул руку для очередного шага, уперся ею в каску Климова и упал на бок. И лежа, оскалив белые десны, яростно зашептал:
— Нет! Он не сволочь… Он такой же, как и ты — раб! Раб, который мечтал въехать на санях в Берлин… Малой кровью… Могучим ударом… На чужой территории… Мировую революцию… Но вот он издали увидел врагов своих, новых викингов…
— Ну?! — таким же яростным шепотом спросил Климов, кося глаза на впалый, блестевший высохшей кожей висок соседа.
— И раб встал на колени! Отдал Россию… Москву… Забился в лагеря — жить! Но тут смерть, и он, как и подобает рабу, захотел вернуться… в подлую жизнь через братскую могилу… из-под трупов! А зачем? Для чего? Все ведь кончено! России уже нет! И никогда не будет… Никогда!
— А леса? А реки? А все наше? Где все это будет? — едва выдохнул Климов.— Где все?
— Что все? — злобно выкрикнул сосед его.
— Все!— угрожающе повторил Климов.— Пусть нас, людей, не останется… Пусть! А Россия-то будет? Будет? Куда же она денется?!
Очень долго они молча и враждебно дышали, потом капитан привстал и проговорил за два раза:
— Колхозный… баран!
Климов приподнялся:
— Я тебя… гад вшивый… Я тебя сейчас…
У него хватило еще сил снять с плеча каску, вскинуть ее и бросить в уползавшего капитана. Тот припал к нарам, и нельзя было понять, рыдает он или хохочет…
Потом в неясном свете барака потянулась неприкаянная, злая и длинная жизнь до вечера: черпак воды, тяжелый маленький кусок хлеба, баланда на дне каски и непроходящее с начала плена могучее желание есть.
Перед вечером в барак вошли трое эсэсовцев и пятеро лагерных полицейских.
— Алле раус! — оглядев нары, сказал немец, а полицейские вразнобой закричали:
— Выходи строиться! Ходячим взять лежачих! Быстро!..
Строились неровным полукругом недалеко от барака. Климов оказался замыкающим. Он сел, прислонясь спиной к тополю. Тополь был теплый и тихий, но в нем, в глубине кряжа, ощущалось кипение жизни. Не слухом, а телом Климов чуял мягкое замедленное потрескивание тополиного ствола, будто его изнутри украдкой сверлил кто-то. «А что, если это подкоп с воли? — вспыхнула обжигающая надежда в мозгу…— Что, если это тот освободитель, кого он все время ждал? Да-да! Он ведь может явиться через тополь — и с автоматами!..»
Так начинался бред, и Климов понимал, что это бред.
Он поднял голову. Переводчик уже давно говорил что-то перед строем. Неподалеку от Климова стояли эсэсовцы и презрительно посматривали на серую массу пленных. «Викинги»,— вспомнил Климов и стал глазами искать капитана. Он искал долго, отдавая этому все свое внимание, и оттого смысл слов переводчика не достигал его сознания.
А капитан стоял третьим от Климова, и на его запрокинутом лице застыло необычное, настороженно-взволнованное выражение. Климов долго смотрел на него и наконец разглядел на лице капитана оттенок насмешки. «Над чем это он?»
Климов прислушался к словам переводчика и понял, о чем тот разглагольствует вот уже полчаса. Оказывается, у тополя найден орден Красного Знамени. Немецкое командование хочет создать его хозяину лучшие условия, потому что оно уважает героев и рыцарей…
Но в строю молчали. Молчали, стоя на правом фланге, молчали, лежа и сидя на левом, и, не меняя положения головы, намертво закрепил свою усмешку капитан, вперив глаза в черные кобуры эсэсовских «Вальтеров». Чужие кобуры по-чужому были и подвешены — на животы, отсвечивали кровавой чернотой, потому что садилось солнце, и плясали на животах, потому что «викинги» смеялись…
Климов заплакал. Но ему не хотелось, чтобы в строю видели это. Он спрятал глаза и сказал:
— Орден мой! — Оттого, что голова была опущена, никто не слыхал его признания, и тогда он поднялся на ноги.— Мой орден!
Он пошел к притихшим эсэсовцам зигзагами, глядя поверх голов их. Туда же из середины строя двигался маленький ссохшийся пленный в артиллерийской фуражке без козырька и в длинной гимнастерке с оторванными рукавами. Он шел ребячьей подпрыгивающей походкой и остреньким голоском выкрикивал под левую ногу:
— Мой! Мой!
Это был второярусник младший лейтенант Иван Воронов. Климов не любил его за то, что по ночам тот часто и подолгу плакал. Они сошлись, не дойдя до эсэсовцев шагов пяти, столкнулись и остановились, дыша тяжело, с хрипом.
Худой длинный эсэсовец лающе крикнул что-то переводчику. Тот почтительно произнес «яволь» и, подойдя к Климову, спросил:
— Так чей же орден?
Климов понял, что поверят ему, а не Воронову. За рост, за голос, за его глаза и лоб поверят. Но в это время на правом фланге строя кто-то сказал спокойно и четко:
— Орден Красного Знамени мой!
Климов и Воронов оглянулись разом. Из строя на шаг вперед вышел полковник. Он стал по команде смирно.
— Могу назвать его номер. Я утерял его вчера… вот здесь. И я готов за него ответить!
…Воронова били полицейские вдвоем, а Климова — трое. Мимо, на выход из лагеря, шел полковник, окруженный эсэсовцами.
То, что думали о Климове и Воронове полицейские, думал о них и весь строй: ложным признанием они хотели улучшить условия своей жизни…
Климов лежал под тополем. Воронов оказался рядом. Климов сказал:
— Не вышло у нас… зато полковнику хорошо теперь…
— Мучить только станут… перед расстрелом,— согласным шепотом отозвался Воронов.— И пусть! И пускай знают, гады, что мы… что у нас тоже…
Климов порывисто обвил рукой тонкую шею Воронова и с какой-то свирепой радостью и гневной обидой крикнул:
— Перестань плакать! Ну!
— Не буду…
Они не скоро дотащили друг друга в барак. В ту ночь в нем впервые был нарушен закон «Долины смерти», не позволявший людям произносить больше тридцати слов в сутки, шевелиться или как-нибудь еще расходовать силы. И тогда впервые Климов почувствовал всю лютую горечь унизительных оскорблений, брошенных человеку человеком не в запальчивом крике, а произнесенных тихим, размеренным шепотом, полным убеждения и веры.
— Давай им скажем, что мы не для «этого» вышли,— просил и плакал Воронов,— что мы… ну ты же знаешь почему! Давай скажем!
— Не надо. Они подумают, что мы оправдываемся… Перестань плакать! Замолчи!! — свирепел Климов.
— Не буду…
К середине ночи барак умолк. С правой, восточной, его стороны в небе взошла маленькая чистая луна, и на первом ярусе, от окна, под которым лежали Климов и Воронов, далеко в глубь нар пролегла узкая световая тропинка. Климов не спал. Тесно прижав спину к его животу и подтянув колени к подбородку, лежал Воронов. Лунная тропа начиналась на его лице, и дыбком вставший на щеке пух светился тихой блеклой зеленью. «Как у гусенка»,— сравнил Климов. Не меняя положения тела, он стал искать глазами фуражку Воронова, чтобы прикрыть ему лицо, и недалеко от своего места, на световой тропе, увидел капитана.
— Чего тебе?
— Сейчас,— сказал капитан.
Он сел на краю лунной дороги, протянув ноги в темноту, будто свесил их над обрывом. Потом молча расстегнул брюки, залез в них обеими руками и принялся что-то делать там, закрыв глаза.
— Ты что возишься там? — испугался чего-то Климов.— Вынь руки!
Воронов сонно вскрикнул и стал приподнимать голову, но капитан протянул над ним свои ладони, и Климов различил на них темный, узкий и продолговатый предмет.
— Это соль… в мешочке…— поперхнулся душным шепотом капитан.— За лагерем ее нет, слышишь? Ничего там нет… А мне конец… к утру. Ну бери… пригодится!
— Не надо! Ты сам ешь… с водой!— почти прокричал Климов.
Жил капитан еще полные сутки и все время, лежа между Климовым и Вороновым, пытался просвистеть какую-то забытую мелодию.— Фии-фию… фить-фить!— выдыхал он сквозь помертвелые губы и крутил над ними указательным пальцем — желтым, узловатым и длинным.
Воронов сдавал на глазах. По утрам, проглотив свою пайку хлеба, Климов подтаскивал его к краю нар, слезал сам на пол и подставлял другу спину.
— Лезь.
— Не надо, Сергей… Иди один,— просил Воронов.
— Лезь! — пригнувшись, командовал Климов. Сидя на нем, перехватив ему живот ногами, а руками обвив шею, Воронов продолжал плакать.
— Замолчи, а то сброшу!— грозил Климов.— Сейчас сброшу!
— Ну и бросай! Бросай! — соглашался между всхлипами Воронов и пытался разжать свои пальцы на шее Климова, но тот намертво зажимал их обеими руками.
На второй день после того как эсэсовцы увели полковника, а полицейские лишили Воронова последних сил, у Климова появилась в руках крепость, и он влез на второй ярус нар, чтобы взять там забытую Вороновым консервную банку под баланду и воду.
Одно непостижимое разумом обстоятельство изгнало из сердца Климова неизбывный страх первоярусняка, что на заре он умрет: — тополь. Нет, никто не рыл там подземного хода и никто не сверлил его кряж, чтобы появиться в лагере с автоматом. Тополь просто лопнул сухой умершей древесиной в том месте, где его кору объели пленные, и в расщелину выперла и взбухла бледно-зеленая новая кора!
Оттого ли, что кора пахла горьковато-остро и чисто,— весной и лугом, или потому, что на его глазах впервые в лагере свершилось попрание смерти жизнью, но только Климов понял вдруг, что он не умрет на первом ярусе! Он не знал, что случится с ним и что он сделает, но вера эта крепла, и он хотел, чтобы Воронов ощутил то же.
— Ты прижмись щекой к дереву. Щекой! — почти суеверно говорил Климов, и Воронов прижимался, но не мог удержать голову.
— На воздухе я все куда-то падаю…— признавался он.— Пойдем домой, в барак, а?
В тот день Климов отдал Воронову свою пайку хлеба; отдал не легко и не сразу. Целый день он носил теплый и по-живому упругий квадратик за спиной под «рубахой», и целый день хлеб кричал, что его надо съесть. И только ночью, когда глаза ничего не видели, Климов вынул из-под мешка хлеб и поднес его ко рту Воронова.
— Ешь, скорей только!
За проволокой, с правой стороны барака, опять всходила луна. Снова на первом ярусе нар пролегла серебристая дорога, и на ближней сторожевой вышке опять запел эсэсовец-охранник. Песня была деревянной, плоской, насыщенной отрывистыми, как команда, словами. В ней не было ни радости, ни тоски, ни разлуки, ни зова. То был марш-напутствие чему-то тяжелому и механическому, как танк. Да, да, танк! Климов зримо видел его — огромный, пыльный, из железобетона, тысяч в триста пудов весом. Тупо, нигде не задерживаясь, танк лезет по Земле, подминая под себя все — березовые рощи и горы, города и ржаные посевы, иссушая реки и опустошая луга. Он лезет, а сзади на всей Земле, пролегает черная глубокая рана-след и там во веки веков не будет жизни…
Климову хотелось всем телом, чтобы на пути этого пыльного чудовища возникла зеленая пушка с необъятным солнечным жерлом и выстрелила, и разнесла вдребезги этого чертова погубителя Земли!..
Лунный луч отодвигался все дальше и дальше в глубину нар, отыскивая по пути серые притихшие фигурки пленных, будто прощально целуя их. По-детски обиженно вздыхая, лежал Воронов. Изредка он сладко чмокал ртом, тихонько стонал и шевелился. Климов потеснее придвинулся к нему.
— Сейчас бы картошки печеной, правда, Сережа? — отчетливо проговорил вдруг Воронов и судорожно сглотнул слюну.
Климов промолчал.
— Или молока! Топленого… аж коричневого… с пенкой… из погреба!
Прямо над головой Воронова, на втором ярусе нар, кто-то ответил ему заглушённым голосом — лежал вниз лицом,видно:
— Молоко что! Вот горячие лепешки, на сковороде…
— Товарищи! Неужели нельзя молча думать об этом? — прошелестел чей-то умоляющий голос.— Думать — и все. Ведь с ума сойдешь!..
Но было уже поздно. Негромко и торопливо, будто опасаясь, что ему не поверят, кто-то рассказывал в полузабытье:
— Бывало, встанешь, а на кухне уже слышно: тщщщии!..
— А я по утрам не ел! Не ел… Понимаете вы? Не ел! — с обидой твердил кто-то из угла второго яруса.
— Почему? Слушайте, майор, это вы? Почему не ели, а?
— Не хотел… Привык к определенному режиму…
— А, бросьте! Какой там, к черту, режим был!.. Просто вы дурак были… Дурак — и все!
Потом на нарах вспыхнула и не скоро погасла ссора — многие не поверили кому-то, что всего лишь за день до войны он ел гуся с черносливом.
— Врешь! Этого с тобой не было!
— Нет, было! Было! Я ведь сам ел!.. Почему же не было?
— Потому что так надо!.. Так легче! Замолчи!
В положенный час утра в барак не принесли хлеб. Воронов бредил едой, не поднимал голову, и Климов пришел к тополю один. На дымной тополиной вершине звонко плескались листья, и Климов верил, что если б сорвать хоть пять штук их для Воронова, он бы выжил. Нечем было и наковырять коры, которая стала теперь плотной, литой.
До полудня Климов просидел под тополем. Над лагерем сияло солнце, кусками пышного теста проплывали облака, а с толевых крыш бараков каплями сочной патоки стекала разогретая смола. Весь видимый Климовым мир не стоял на месте, все уплывало куда-то в сторону и вбок: черные бараки, черные вышки с черными эсэсовцами, черная земля, и, может быть, поэтому расстояние между тополем и бараком увеличилось теперь почти вдвое,— на обратном пути Климов упал дважды.
В бараке стыла сумрачная тишина. Воронов сидел на краю нар и одной рукой обнимал станину, а второй ловил что-то в воздухе. В широко раскрытых глазах его не было зрачков; глаза были тусклые, большие и белые, и, повинуясь какому-то мгновенному безымянному чувству, Климов вскинул к его лицу руку и коротко ударил ладонью по щеке. Воронов вздрогнул и зажмурился, но Климов ударил снова и закричал:
— Не спи!.. Не надо!..
Когда Воронов открыл веки, зрачки оказались на месте. Он глядел удивленно, силясь что-то понять и сказать, но Климов притянул его голову к себе, отыскав на ней ртом холодную раковину уха.
— Не спи! Слышишь? Сейчас принесут баланду… Ты съешь и мою порцию… Не спи!
Но баланду не принесли… По нарам беззвучно запрыгало слово — акция! Это значит — ни крошки пищи. Это значит — ни капли воды. Может, только день. Может, два. А может, пять! Акция — чужое слово, но знакомый смысл: серый комок смерти, выплодок лагерей и эсэсовцев!..
А перед заходом солнца явились полицейские.
— Ходячим строиться! С вещами! Быстро!
С вещами? Это значит — взять с собой котелки. Или банки из-под консервов. Или каски, как у Климова. Ходячим? Это значит — на отправку. Может, в Германию. В шахты…
Климов подтянул ноги и притих, обняв Воронова. В бараке поднялась вялая суета и послышались звонкие, как пистолетные выстрелы, удары: вдвое сложенными ремнями с пряжками на концах полицейские ускоряли сборы.
— Эй ты, в мешке! Орденоносец!.. Целыми днями по лагерю шакалишь, а как на работу… сволочь! А ну, вылазь!
Климов понял, что это ему. Он привстал и повесил на плечо каску. Лица Воронова не было видно — на нем косо лежала фуражка, и Климов поправил ее, уложив прямо. Он уже полез с нар, когда его настиг шепот:
— Сергей… не бросай… вместе…
Под хохот полицейских он усадил Воронова к себе на спину. Тот заученно обхватил его шею руками, не выпуская банку, и Климов вдыхал из нее знакомый запах баланды…
К центру лагеря из всех бараков стекались люди. Там стоял крытый «Опель-блиц», несколько эсэсовцев и полвзвода солдат-конвойных.
— Разберись по два! По два! — визжали полицейские и стреляли ремнями. Строй возникал быстро, ломанно протягиваясь через весь лагерь, огибая тополь и теряясь хвостом где-то за третьим бараком. Но Климов мог двигаться только к тополю. Там он уронил Воронова и услыхал голоса пленных, в которых билась живая открытая радость, смешанная с тревожным недоумением:
— Хлеб дают! По целой буханке! На двоих!.. Ощутив в теле раскаленную боль голода, Климов волоком потащил Воронова в середину строя, выкрикивая в его запрокинутое лицо:
— Дают хлеб! На двоих! Буханку!
В строй их впустили не сразу,— хлеб ведь мог кончиться именно на них,— и, зажатый телами, Воронов встал на ноги. Из кузова «Опель-блица» чьи-то красные мясистые руки кидали подходившим пленным тяжкую, как кирпич, буханку, и к ней бросались руки — гибкие, желтые.
— На двоих — на пять дней! На пять дней! — издали предупреждал переводчик.
Брошенный хлебный кирпич поймал Климов, но Воронов тоже протянул к нему руки и выронил банку. Она слабо звякнула, подкатилась к ногам конвоира, и тот ловко сыграл ею в футбол.
— Пусть,— сказал Климов,— будешь держать хлеб…
Уже в сумерках конвоиры построили пленных в колонну по четыре в ряд и вывели из лагеря. За проволокой иные были запахи, иной трепет звезд, иные шумы недалекой станции. Климов все это видел и слышал, двигаясь в хвосте колонны с Вороновым на плечах. Отставший с ними конвоир то и дело пинал прикладом винтовки спину Воронова, и тогда Климов невольно ускорял шаги.
Они падали через каждые десять-двенадцать шагов. Конвоир топал ногами и выкрикивал свои немецкие ругательства. Климов молча вставал, подтягивал на плечо Воронова и шатаясь брел вперед, к станции. До нее оставалось уже мало, не больше, чем было от барака до тополя, когда Климов споткнулся и долго не мог встать. Он видел, как конвоир спешно пошел назад, к лагерю, но через несколько шагов остановился и стал ладить винтовку к плечу.
«Все! Конец!» Климов хотел сказать это Воронову, но тот лежал вниз лицом и ел хлеб, вгрызаясь всем ртом в буханку, давясь и содрогаясь. «Пусть… Я скажу этому…»
— Стреляй, бандит!.. Стреляй… в душу твою черную… холодную… Русские люди всегда и всюду… умели… Стреляй, подлюга… паук серый!..
Климов стоял на коленях, прижав к щекам кулаки, и конвоир, наверно, принял исступленные слова его за молитву и просьбу. Он задержался, визгливо прокричал: «Шнель!» и выстрелил мимо, вверх, в горевший красным огнем Марс…
…Станционный гравий еще излучал дневное тепло. С глухим стуком и скрежетом закрывались двери товарных вагонов, и в пробоины запоров конвоиры вбивали железные болты.
Климов и Воронов погрузились в хвостовой вагон состава последними из колонны. Они долго лежали у дверей, переплетясь руками и ногами. Потом Климов вспомнил о хлебе и стал ощупывать Воронова. Размеренно поднималась и опускалась оголенная грудь его,— он дышал, а под плечом, у самого уха, берег буханку. Осторожными движениями пальцев Климов исследовал ее края. И то, что была она целой, только чуть-чуть объеденной с уголка, вдруг погасило в нем темное, почти враждебное чувство к Воронову, родившееся от мысли, что он съел хлеб один. «В друга не поверил!..» Коротким тяжелым словом Климов обругал себя и позвал виновато, страстно:
— Ваня! Друг… Проснись. Давай есть.
Вокруг них лежали и сидели люди. Кто-то у кого-то допытывался, куда их везут, кто-то просил пить, кто-то стонал протяжно и надрывно, будто пел. Временами вагон сотрясался, вздрагивал и раскачивался, а порой почти останавливался,— состав мчался рывками, как убегающий вор.
— Съедим всю… да, Сережа? — невнятно спросил Воронов, когда от буханки оставалось уже меньше половины.
— Всю,— сказал Климов. Он жевал сухой, лишенный запаха и вкуса мякиш и следил за пестрым световым бликом на противоположной стене вагона. Пятно перемещалось вправо и влево, вниз и вверх, наполняя вагон каким-то неживым сыпучим светом. «Луна. Слева по ходу состава. Значит, везут не на восток. Везут на запад».
Вслед за этим открытием Климов, как и в лагере, когда ожидал прихода «крючников», испытал немой и жаркий испуг за свой рассудок,— плен кончался! В вагоне окно!!
Он перекатился через Воронова и, давя чьи-то неподатливые тела, полез туда, откуда падал в вагон световой блик.
Да, окно! Узкое и продолговатое. Под потолком. Снаружи оно опутано неразлучной спутницей пленных — колючей проволокой, оттого и блик на стене пестрый. Внутри над окном — крюк, и не один, а много. Для чего они? Раз и два Климов ударил кулаком в проволочную сетку, потом вытер руки об голову и пошел назад, за каской.
— Иван… друг… Все! Сейчас все! Не спи!.. Давай руку!..
Звон от ударов каской в проволоку был чистый и тонкий, будивший что-то далекое, хорошее и светлое. Климов бил и бил по сетке и, когда она отвалилась, услыхал голоса:
— Товарищ! Что ты задумал?.. Ты уйдешь, а нас расстреляют…
— Давай, давай, браток!..
— Опомнитесь… Других пожалейте! — Давай!.. Все вылезем!..
Воронов сидел на корточках под окном. Климов снял с него ремень, зацепил на крючок и крикнул:
— Вставай! Держись за ремень… Ну?!
Он продел в окно ноги Воронова, потом протолкнул туловище и плечи. Руки Воронова свисали внутрь вагона, голова тоже, и Климов видел его глаза — радостные и бессмысленные.
— Оттолкнись ногами! Ногами!.. А я выброшу твои руки, ну!
Но Воронов потусторонне улыбался и ничего не делал. Тогда Климов изо всех сил толкнул его от окна и упал сам. Он тут же поднялся, но у окна уже копошились люди, и кто-то немощно подтягивался на ремне.
— По очереди… Сейчас — я! — сказал Климов и властно забрал ремень в свои руки.
Множество чьих-то рук помогли ему подтянуться к окну и протиснуться, и он повис на ремне, глядя вперед, в голову состава. Климов видел его весь сразу — длинный, стремительно изогнувшийся на повороте, освещенный луной. Подобрав ноги, он уперся в прохладную обшивку вагона, оттолкнулся и полетел навзничь, чуть клонясь головой вниз, к земле. Климов глядел в небо и видел, что вместе с ним и на него падали и звезды, и пронзительная луна, рассыпавшаяся на мелкие сверкающие осколки, на лету вдруг ставшие седой тополиной листвой…
О чем Седой тополь — Воробьев К.Д., краткое содержание
Седой тополь — рассказ Воробьёва про события 1942 года в лагере для военнопленных. Там никто не хотел бороться за жизнь кроме старого тополя с корой, объеденной людьми, посреди лагеря. Молодой лейтенант берет пример с тополя.