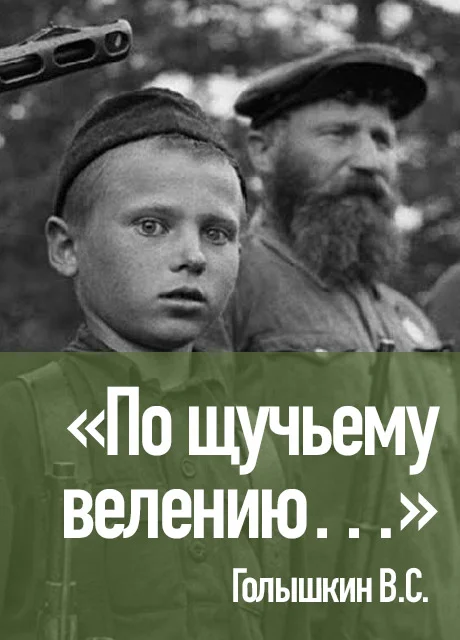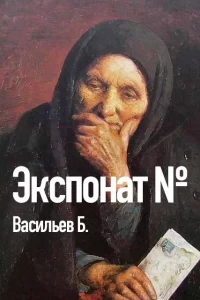Снег и снег. И посреди снега, как посреди моря, однотрубный корабль-печь — все, что осталось от сказки. А ведь была еще изба — светлая, просторная, из которой эта печь выезжала по первому моему хотению. И много-много изб вокруг, в которых ютились повелители других волшебных печей… Праха-следа не оставила война от тех изб и печей. А моя печь — вот она — цела и невредима, хоть сейчас седлай ее и, как тогда, в детстве, «по щучьему велению, по моему хотению…». Да где то детство?.. Где тот волшебный седок?.. Детство давно миновало, а сопливый повелитель волшебной печи вырос, возмужал и, хоть все еще молод, как пень мохом, оброс долгим волосом. По волосу-бороде и кличка Дед, законная, правда, только в разведке. Во всякое другое время я для всех лейтенант, командир взвода полковых разведчиков.
— Дед!.. Эй, дед!..
Я не успел обернуться на кличку.
— Ась? — скрипуче черным зевом отозвалась яма под печью.
Я, вздрогнув, отступил и машинально сжал автомат.
— Ась? — еще раз скрипнула печь, и из ее нижнего зева, там, где прячут ухваты, вылезло диковинное существо — волосатое, черное как ночь. Отряхнулось, развеяв по снегу тучу сажи, вперило в меня белки глаз и пошло навстречу, растопырив руки. Но я уже разгадал его нехитрый маневр и не позволил заключить себя в объятия. Поднял автомат и крикнул:
— А ну! А ну!.. Кто такой?
Идущий остановился в недоумении.
— Ай не признал? — проскрипел он.
Как не признать? Признал, наконец. По голосу. Но — бр!.. — что за манера у этого деда Кудрявцева лобызаться с каждым встречным-поперечным. Никого, бывало, не пропустит, прежде чем трижды не расцелует. Тот, кто знал эту манеру дедову, завидев его, непременно переходил на другую сторону деревенской улицы и уж оттуда, содрав картуз, почтительно здоровался с дедом. А тут еще сажа эта… Нет уж, лучше я издали.
— Дед Кудрявцев? — спросил я.
— Быдто ён, — ощерился в улыбке дед, порываясь перейти в наступление. — А ты, никак, Семен?
Вон оно что! Дед Кудрявцев, оказывается, меня не за того принял. За отца. Я на него как гвоздь на гвоздь похож. А сейчас, с бородой, вылитый родитель.
— Алексей, — поправил я деда.
— Ляксей! — ахнул дед, возобновляя движение. — Семенов сын! — Но я не дал ему приблизиться. Подошел первым и, пожав руку, пресек дедову страсть к лобызанию.
Сколько же мы не виделись? Полгода войне — полгода и не виделись. Ушел я из села в июне на запад, на виду у всех, а вернулся, сейчас вот, с востока, в декабре, и тайком от всех. Хотя кого, собственно, было таиться? Ни людей в селе, ни самого села, одна печь… И, между прочим, моя печь, нашей фамилии, а не дедовой, чего же он тут, дед Кудрявцев, возле моей печи суетится?
Именно это и пожелал я узнать у деда Кудрявцева.
Услышав, о чем спрашиваю, дед Кудрявцев как-то сразу посерьезнел и с расстановкой ответил:
— Чего делаю? При ней вот и состою. При печи этой, значится.
Я усмехнулся, а кто-то из смешливых слушавших нас разведчиков откровенно хохотнул: дед, состоящий при печи, умора!..
— Это как же, при печи? — спросил я.
— Натурально, — сказал дед и усмехнулся в бороду. Нагнулся, выхватил из ямы ухват. Пырнул его в печь и выволок пузатый чугун. В чугуне аппетитно булькало. В нос ударил запах борща. Мои разведчики заулыбались, повытаскивали из-за голенищ ложки и потянулись к чугуну…
Хлебали и нахваливали: «Деликатес». Уж не думалось ли им, что они здесь жданные гости? Нежданные. За это я мог поручиться. Ни деду Кудрявцеву, никому другому, кроме меня, не был известен маршрут разведки. И дед Кудрявцев не мог знать, что мы заявимся к нему на угощение. Для кого же он в таком случае наварил борща? Для себя? Нет, для себя многовато. Для кого же?
На этот вопрос, скорбно вздохнув, дед Кудрявцев ответил так.
— Для всякого проходящего, — сказал он.
— Да какие же тут проходящие? — удивился я.
— Всякие, — уклончиво отвечал дед. — То, было, наших немец гнал, то, буде, наши немца потурят. Ну, который ихний и отобьется от войска… Не помирать жа, накормлю…
Ложки, как дятлы, долбившие чугун, сразу прекратили стук.
«Что? Чего? Чего?» — Глаза — серая лютость — впились в деда Кудрявцева. Руки, приученные мстить, потянулись к автоматам…
— Значит, так… Значит, гутен таг, господин фашист, и хлеб-соль в зубы, так, что ли, чертов дед?
Дед Кудрявцев струсил, выдала жалкая улыбка, но не сдался:
— Не всяк немец фашист.
Всяк не всяк, где нам в ту пору было разбираться. Немец висел над Москвой, как саранча, — сядет и все дотла сожрет. Нет, для нас в то время «немец» и «враг» были слова одного значения. Увидел немца — отомсти, за смерть — смертью, за пепел — пеплом. Всякое действие вызывает противодействие. А фашистское «действие» — вон оно, мозолит глаз мертвой плешью на месте живого села, тычет в него горбиками могил русских баб и мужиков, погубленных захватчиками. Как же он смеет, дед Кудрявцев, дед-простак, после всего этого жалеть недостойных жалости и думать (пусть только думать, одно это уже преступно!) о том, чтобы кормить и обогревать фашистов, пусть и бегущих на запад?
— Как же ты смеешь?.. — спросил я, жалея деда.
— Смею, — упрямо ответил дед, — потому как лежачего не бьют.
— Да где ты видишь «лежачего»? — огрызнулся я, все еще жалея ослепленного жалостью деда. — Немец на Москву прет…
— Кой на Москву, — уклончиво согласился дед Кудрявцев, — а кой и обратно.
Я просто взбесился:
— Врешь ты все, дед. Как это обратно? Куда обратно?
— Покедова к мене, — сказал дед, растягивая слова.
Я смотрел на него, как на сумасшедшего, и в толк не мог взять, о чем это он, о чем? И вдруг меня осенило. «По щучьему велению, по моему хотению, ловись «язык» большой, ловись маленький…»
— Пленный?! — заорал я.
Дед Кудрявцев бодро кивнул головой, порылся за пазухой и извлек на свет клочок бумаги. На клочке вперемежку латинскими и русскими буквами было написано: «Xotetь бiть рussiшь плен. Гiтлер капuт».
— Где он? — Я был как в лихорадке.
Дед Кудрявцев усмехнулся и постучал лапотком по снегу.
— Схоронен.
— Умер? — голос у меня упал.
Но дед смотрел беспечально.
— Нипочем нет. Живой схоронен. На предмет… — Дед Кудрявцев любил при случае щегольнуть казенным словечком. — На предмет представления военным властям.
У меня отлегло от сердца.
— Вот нам и представишь, — строго сказал я.
— Представлю, а как же? — засуетился дед. — Вы мне документ, я вам — пленного.
— Документ? — вскричал я, не заметив оговорки.
— Непременно, — сказал дед, — по всей форме. Потому как я за него в ответе. — Дед завел глаза и ткнул черным, как уголь, пальцем в небо.
— Перед богом, — понимающе кивнул я, забыв о том, что дед Кудрявцев первейший безбожник.
И сейчас же был наказан за свою недогадливость.
— Не перед богом, а перед опчеством, — строго поправил дед.
Я не стал уточнять масштаба дедовой ответственности — то ли деревенское общество имел он в виду, то ли все наше советское, — а чертыхнулся, достал из планшета бумагу и нацарапал что-то вроде того, что года такого, числа сякого принят для доставки один пленный фашист. И подпись. Неразборчиво.
Дед Кудрявцев читал долго и почему-то, как петух, одним глазом. Потом с сомнением покачал головой.
— Не по форме, что ль? — теряя терпение, спросил я.
— По форме, — протянул дед. — Да не фашист он. — Поскреб черной рукой под черной шапкой и добавил: — Свой брат, крестьянин.
Он просто не знал, чем рисковал. Назвать в то время немца братом?!
Нас никто не учил ненависти. Научить ненавидеть нельзя, как нельзя научить любить. Любовь и ненависть приходят сами. Любовь — как пленение самым дорогим и милым, ненависть — как неизбежная и беспощадная реакция на причиненные зло и обиду. Чем страшнее обида, тем сильнее ненависть. Ненавидеть немца сильнее, чем мы его тогда ненавидели, было нельзя.
Он занес руку на самое дорогое, что у нас у всех было, — на Россию. А кем бы мы все без нее были? Травой без корней, перекати-полем, гонимым неведомо куда. Лишиться родины — России для нас было страшней, чем лишиться жизни. И чтобы сберечь Россию, мы не жалели жизней — ни своих, ни чужих. Нет, дед Кудрявцев просто не знал, чем рисковал, равняя себя, советского, с каким-то там «немецким братом». А может, знал? И рисковал, зная, что рано или поздно он будет прав? Что нет и не может быть такого фронта, который навсегда разделил бы рабочих и крестьян разных стран?
Он еще бубнил что-то о «затемнении», которое навел на немецких людей Гитлер, о затемнении, которое пройдет, рассеется, сгинет… Но я уже не слушал его. Я весь был поглощен предстоящей встречей с пленным. Знал бы он, дед Кудрявцев, в какой цене «ходил» у нас этот пленный…
…Мы отступали. Мы пятились к Москве и, как пловцы, смываемые волной, из последних сил старались за что-нибудь зацепиться. И вдруг удалось, зацепились. Враг ослабил напор, и мы в один миг ощетинились навстречу ему последними стволами автоматов, винтовок, пулеметов и пушек. Удержимся или не удержимся?
Приказ: стоять насмерть. Мы и будем стоять. Стоять до последнего. Ну а когда не станет того, последнего? Тогда что? Нет, стоять насмерть — это еще не все. Стоять и знать, что ты своей смертью откроешь фронт?.. Нет, стоять надо так, чтобы удержать фронт. А для этого знать, что держишь. Это — «что держишь?» — интересовало всех — от Верховного до начальника нашей разведки, рыжего и веселого, как солнце, майора Солнцева. Солнце иногда хмурилось, майор Солнцев — никогда. Манера? Не знаю, но когда командиры хмурились, у солдат на душе кошки скребли. Нет, улыбка у командира в бою для солдата дороже ордена. Он и сейчас не изменил себе, майор Солнцев. Отправляя нас за «языком», каждому улыбнулся, каждому пожал руку. Потом, через плечо, кинул связисту:
«Первого, — подошел к телефону и взял трубку. — Ваше приказание выполнено. Да, у меня… Да, вполне… («Надежные», — догадался я). Живыми без «языка» они не вернутся…» — И пристально, без улыбки, посмотрел нам в глаза.
…Это было так. Справа и слева по гитлеровцам ударили наши пушки. Умолкли, и сразу, гремя «ура», поднялась наша пехота.
Немцы, до того молчавшие, не выдержали и, решив — «контратака», отозвались всем, что могло стрелять: затрещали автоматы, залаяли пулеметы, заухали минометы, забасили орудия… Наша пехота отхлынула обратно и залегла. Она свою роль сыграла.
Сыграли свою и мы — разведчики. Пока справа и слева гремел бой, прорвались посредине на вездеходе. Когда фашисты, спохватившись, открыли по нему огонь, нас там уже не было. Мы, выскочив, скрылись в лесу, подступавшем к дороге, и, затаившись, своими глазами видели, как неспешно ползущий вездеход был накрыт миной. Его вскоре окружили набежавшие автоматчики и, зло бранясь и ликуя, стали выволакивать из машины убитых. Они напрасно ликовали. Те, кому надо было остаться в живых, — остались. А те, кого фашисты на наших глазах выволакивали из машины, были убиты еще раньше. Мы нарочно взяли их с собой, чтобы отвлечь внимание от себя. Они и мертвые воевали с теми, кто их убил.
Убедившись, что экипаж вездехода погиб и попытка прорыва не удалась, автоматчики разошлись по своим местам. А мы, дождавшись ночи, начали охоту за «языком» и под утро наскочили на деда Кудрявцева. Скорей бы он выволакивал своего пленного! Занятно, где он его здесь прячет, под печью, что ли?
Я угадал. Дед наклонился и крикнул в яму:
— Эй, Курт… Свои…
Меня прямо покоробило это «свои». А потом я подумал: может, Курт и впрямь свой, немецкий коммунист-подпольщик?
Из ямы высунулось унылое, длинное, в шапке-ушанке лицо. За лицом, подобравшись, как гусеница, в зеленой, испачканной сажей шинели вылезло туловище, потом ноги в подшитых валенках, и наконец образовался целый немец. Встал, отряхнулся, покосился вокруг и задержал взгляд на мне.
Что-то, видимо, выдало во мне командира, хотя белые халаты, как мне казалось, надежно маскировали наше служебное положение. Может, борода? Ну конечно, она «партизанская». А страшней «катюши» и «партизана» в зиму сорок первого для фашистских зверей не было.
Я решил проверить свою версию.
— Ду… ты, значит… ист… есть Спартак? — до войны, я знал, спартаковцами называли себя немецкие коммунисты.
Немец рыл глазами землю и молчал.
— Ну? — крикнул я.
Немец, как утопающий, хватил глоток воздуха и, не поднимая глаз, признался:
— Нихт… Курт есть наци… фашист…
Голос у него дрогнул.
Краем глаза я видел, как изменились разведчики. Лица белее снега… Глаза чернее углей…
Я злорадно усмехнулся:
— А… Курт — трус? Да?
Немец впервые поднял глаза:
— Курт нихт трус. — Голос у него отвердел. — Курт цвай герой.
Распахнул шинель и побрякал двумя маленькими, похожими на пропеллеры железками.
Мы молча переглянулись: вот так удача, «язык» с крестами. Однако спеси сколько: «цвай герой». Я не выдержал:
— «Цвай», а в плен драпаешь.
Немец помрачнел.
— Гитлер капут, — сказал он. — Наш война — плохой война есть. — И кивнул на деда Кудрявцева: — Его земля не есть мой земля.
Вот как он сегодня запел! А вчера еще верил: русских мало, а земли у них много, придешь — сами наделят. И скольких, на его глазах, уже «наделили» — двумя аршинами под деревянным крестом с железной каской. Нет, лучше не надо ему такого надела, лучше в плен…
В плен так в плен. Мы рады были оказать ему эту услугу.
Мы напялили на немца запасной маскхалат, простились с дедом Кудрявцевым и ушли.
Я вел разведчиков к лесу, кремлевской бровкой маячившему на горизонте. Белое без солнца небо висело над белой землей. «Белое — это хорошо, — думал я, — белое — значит, к снегу. А снег — к удаче. Пойдет снег и поможет через линию фронта перебраться».
Вдруг из-за взлобка навстречу нам выехали салазки с хворостом. Мы замерли. Что за чудеса? «По щучьему велению, по моему хотению, а ну, сани, бегите сами». Увы, чудес не было. Салазки — это мы потом разглядели — толкал на заснеженный взлобок мальчишка в высокой, как копна, «боярской» шапке и громадных, «под живот», валенках.
Мальчишка, остановившись, смотрел смело:
— Наши…
— А ты почем знаешь? — насторожился я.
Мальчишка, усмехнувшись, постучал себя по лбу.
Но я не обиделся, догадался — по звездочкам на шапках узнал.
— Ты чей? — спросил я.
— Деда Кудрявцева… внук.
— Колька! — вспомнил я.
— А ты? — Колька смотрел и не узнавал меня. — Здешний?
— Здешний, — сказал я. — Буниных… Алексей…
— Лешка, а с бородой! — засмеялся Колька. Я ведь был немногим старше его.
— Ну это для храбрости, — сказал я, — фашистов пугать. Они бороды знаешь как боятся? А хворост деду?
— Ему, — вздохнул Колька, — печку греть. — И посмотрел на нас завистливым взглядом. Ему бы с нами, фашистов бить, а не бока у дедовой печки греть…
Мы разошлись, не чая когда-нибудь встретиться. И все же встретились. Неделю спустя. Под Новый год. Но это была грустная встреча. Потому что на ней не было и не могло быть деда Кудрявцева. Он… Но по порядку.
Нам недешево стоил путь обратно. Недешево, нет, хотя мы и дождались в лесу темноты и метели. Мы ползли тремя группами и средняя, во главе со мной, волокла пленного немца. Ракеты — зеленые, красные — порхали, как потревоженные птицы, но мы не боялись их. Все равно разглядеть что-либо в кромешной белой мгле было невозможно. Я знал — нас ждали. Две ночи ждали. Сегодня — третья, последняя ночь ожидания. Если мы не вернемся, за «языком» уйдут другие.
На нашей стороне ежечасно с вечера, когда сгустеет тьма, должна была вспыхивать «двойная звезда» — белая и красная ракеты — наш ориентир. Она и вспыхивала. Все ярче и ярче по мере того, как мы приближались. А приближались мы медленно, ползли осторожно, как улитки.
Только бы благополучно перевалить передний немецкий край… Только бы перевалить, а там мы дома: «Ни с места. Кто ползет?» — «Свои». И по сто фронтовых с мороза, с устатку… И спать… А «языка» в штаб, по назначению…
Ну, кажется, все. Перевалили. Немецкие ракеты уже позади пляшут. Вдруг взрыв! Второй!! Третий!!! Глухой стон и — на мгновение — мертвая тишина. И тут же вой мин, рой трассирующих пуль… И все на наши головы. Вот тебе и перевалили немецкую передовую…
Перевалить-то перевалили, а на минное поле напоролись. Чье оно? Неужели наше? Не должно быть. До нашей передовой «ничьей» земли вон еще сколько. Значит, немецкое. А немецкого не должно быть. Наступающие минных полей не ставят. Наступающие — наступают.
Должно не должно, а факт налицо. Мы напоролись на немецкое минное поле, а это многое значит. Это, черт возьми, значит, что немцы от наступления перешли к обороне, и не нам ихнего, а им нашего удара надо бояться. Скорей же, скорей к своим, доставить пленного и доложить о том, что видели, узнали, высмотрели! Нет, скорей нельзя. Надо переждать огонь, прикрывая собой пленного немца. Его жизнь для нас дороже сейчас, чем собственная.
Над головами простонала мина и, ухнув, забросала нас комьями мертвой земли.
Минута… Другая… Третья… Ти-ши-на. Теперь вперед. Только осторожно. Согревая дыханием пальцы и ощупывая каждую пядь земли…
— Лежать… Кто ползет?..
Тревожный родной, русский голос. Свои. Нас ждут.
…В ту же ночь «язык» с крестами был отправлен в штаб фронта — первый сам сдавшийся в плен «язык», — а на другой день все мы, разведчики, ходившие за «языком», были награждены орденами. Все. Живые и мертвые. Те, что вернулись, и те, что остались лежать на минном немецком поле.
А через неделю началось наше наступление, и я «по щучьему велению, по своему хотению» вновь оказался в том месте, где принял пленного. Печь, где она? Лишь груда битого кирпича. Снаряд угодил, что ли? Спросить бы у кого, узнать о судьбе деда Кудрявцева…
Вдруг мне почудилось, будто в воздухе запахло смоляным дымком. Я принюхался. Точно, дым. Но откуда? Вокруг не дымилась ни одна труба, да и самих труб не было. Нет, была. Дым шел из трубы — железной, похожей на сапог, головкой кверху, торчащей из бугра-погреба. Я подошел и постучал по трубе.
Мешок-полог, скрывавший вход, отошел в сторону, и из землянки-погреба все в той же «боярской» шапке вылез внук деда Кудрявцева Колька. Сейчас же, вслед за Колькой, кряхтя, вся в немыслимом тряпье, с серым и морщинистым, как земля, лицом вылезла и безмолвно уставилась на меня пожилая женщина. Узнав меня, Колька поздоровался и сказал:
— Беженка. У нас пока приютилась.
— А ты здесь с кем? — спросил я.
— Один.
— А дед Кудрявцев?
Колька долго молчал, шевеля губами, как будто вспоминая забытые слова. Наконец заговорил.
…Дед Кудрявцев недолго нес свою добровольную службу. Но трех немцев-дезертиров все же успел завлечь в плен. На их беду, успел. Потому что, откуда ни возьмись, налетели на деда эсэсовцы. «Кто такой? Чего здесь колдуешь?» — «При печи состою, проходящих обогреваю». А тут и «проходящие» голос подают: «Геноссе, геноссе, Гитлер капут». Трое их было. Троих и расстреляли. Хотели заодно и деда шлепнуть, да печь спасла. Погреться фашисты вздумали. Облепили, гады, печь, как тараканы. Велят деду: «Подтапливай!»
Нарубил дед хвороста. Мало показалось. Снарядил внука в лес с салазками. Ушел внук, а когда вернулся, ни деда, ни печи, ни гадов-фашистов. То-то ухнуло, когда он в лесу хворост собирал. Думал, бомба или снаряд дальний. А оно вон что: дед Кудрявцев взрывчаткой печь начинил — и вместе с фашистами…
Я посмотрел на Кольку и удивился — не печалью, а злой радостью светились его глаза: за всех рабочих и крестьян отомстил дед Кудрявцев, и за советских и за немецких.
Мне стало жаль Кольку. Один… пропадет… И я решился.
— Хочешь в разведчики? — спросил я. — Сыном полка, а?
Глаза у Кольки сверкнули и тут же погасли.
— Нельзя мне, — сказал он и кивнул на женщину: — Хворая она. Не с кем ей…
Вечерело. И чем гуще становились сумерки, тем ярче озаряли горизонт огни войны, уходящей на запад. Над нами с тихим шелестом пролетел тяжелый снаряд. Стреляла наша дальнобойная.
— У, сила! — присвистнул Колька.
Он еще не понимал, что вещи только кажутся сильнее людей.
О чем «По щучьему велению…» — Голышкин С.В., краткое содержание
«По щучьему велению…» — рассказ Голышкина. Снег и снег. И посреди снега, как посреди моря, однотрубный корабль-печь — все, что осталось от сказки. А ведь была еще изба — светлая, просторная, из которой эта печь выезжала по первому моему хотению.