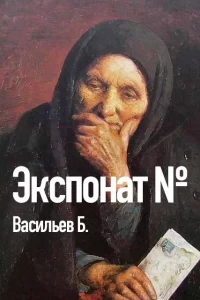За год до войны у нас умер отец. Нам, малышам, сказали, что у него не выдержало сердце. А как оно не могло выдержать? Этого мы понять никак не могли. Он был такой большой, красивый, высокий, а значит, и сердце должно было быть такое большое… Теперь за отца был наш дед Пахом. Он научил нас всему, что умел сам. Однажды мама пришла вся заплаканная:
– Война! – сказала она только одно это слово, опустившись без сил на деревянную лавку.
– Ну и что, что война! Мы в неё часто с мальчишками играем, – удивленно взглянув на неё, сказал я.
– Помолчи, сынок! Это настоящая война – не игрушечная! – и наш дед заходил по комнате от печки к углу, и назад, взволнованно ругая какого-то Гитлера.
…Страшно стало c первого дня войны. Я запомнил на всю жизнь этот первый день настоящей войны. Все куда-то бежали, сёстры мои, плакали, мама кричала на нас, но мы не обижались. Она накрывала Иришке голову своей сумочкой, когда бомбили. Самолёты летели так низко, я думал они к нам в сад на яблони сядут, словно большие птицы. Потом я увидел фашиста. Сначала я думал, что фашисты – это машины, самолёты, а увидел солдата в каске и на мотоцикле.
– Сашко, собери всех в дом, – сказал мне дед. – Будем в погребе прятаться от этих нехристей.
Исполняя дедово приказание, вдруг увидел, как этот «нехристь» бьёт бабу Феню в соседнем дворе. Она кричала и плакала, а он бил её сапогом в живот. Сёстры мои обнаружились в малиннике. Они сидели, закрыв голову руками, так их учила мама, когда мы прятались от бомбежек.
– Вот дурочки, зачем закрываете голову? Не бомбят ведь!
– А мы Шашко боимся, – ответила мне Иришка. Она так смешно не выговаривала букву «с», поэтому и имя моё произносила не Сашко, а «Шашко». Иришка была самая младшая из нас четверых, словно хвостик, цеплялась за всеми, ябедничала, капризничала, зная, что её любят больше нас и жалеют тоже больше нас. Ей всего было только три.
– Чего так долго? – спросил меня дед.
– Ничего не долго,– ответил я ему. Пока этих «куриц» нашёл! Опять ни за что из-за вас мне попало. Девчонки! И почему им всё разрешаете, а меня только ругаете и ругаете? – бросил я зло, смотря в сторону своих сестёр.
– Глаша, надо расчистить в погребе место. Будем прятаться, лишние банки с погреба повытаскивай, – обратился дед к маме.
– Я думаю, они пришли надолго. Минск, рассказывают беженцы, горит, весь в огне.
Вдруг мы все услышали автоматную очередь и звон разбитого стекла. Стреляли по окнам соседней хаты.
– Вот мерзавцы, что вытворяют? – испуганно сказал дед. – Глаша, уводи скорее детей. Прячьтесь, а я здесь останусь. Уходите! Детям скажи, чтобы тихо сидели в подполе. Кто знает, что у этих извергов на уме.
Я, и мама, собрав кое-какие вещи, спустились в погреб вместе с моими сёстрами.
– Теперь сидите тихо! – предупредила нас мама.
– Это чтобы они нас не нашли? – спросил я её.
– Ты бы хоть не задавал глупых вопросов. Большой уже, понимать должен! – качая головой, устыдила меня мама.
Через некоторое время мы услышали чужую речь в нашем доме.
– Они нас убьют, да? – опять я задал вопрос.
– Тише, сынок, помолчите все, тихо, дети!
Дед Пахом кому-то говорил:
– Нет в доме никого. Я только один, а невестка моя ушла в город со всеми бабами. Испугалась она.
– Врёшь, куда могла уйти это учительша, у неё детей четверо, – услышали мы знакомый голос нашего соседа.
– Да нет их, Петро! Ты ведь видел, как все уехали и Глаша с ребятами тоже! – настаивал на своём дед Пахом.
– Смотри, старик! Худо будет, если мы их найдём. Если появятся, придёшь и сообщишь в комендатуру новым властям, понятно? – послышался топот сапог, и хлопнула входная дверь.
– Геру офицеру поставишь сюда кровать и немедленно! – приказал Петро.
– Прямо сюда? – удивлённо спросил его дед.
– Приказы не обсуждать! Сказано тебе и всё! Не забудь приготовить чистую постель. К вечеру приду, проверю! Ты понял меня, старик?
– Хорошо! – ответил ему наш дед.
Как только они ушли, дед, приподняв крышку погреба, нам сказал:
– Уходить надо, Глаша! Ищут они тебя. Здесь квартировать будет офицер. Да и дети всё время тихо сидеть не смогут. Девчонки маленькие, плакать начнут. От греха подальше, к вечеру уходите в город к Николаю. Я пока начну собирать вам кое-какую одежонку.
– Слышал, сынок! Не можем мы здесь оставаться! Опасно! Коли дед так забеспокоился, значит, не зря…
– Мама я видел, как они били бабу Феню… Они и деда Пахома могут убить? Как мы его оставим? Кто ему воды наносит, кто дров порубает? Я его не оставлю! Вы с девчонками уходите, а мы с дедом останемся тут вас ждать. Вот, увидишь, скоро этих немцев прогонят! – в моих словах была такая уверенность, что мама улыбнулась.
Она обняла меня и я помог ей и девчонкам выбраться из погреба. Но уйти к деду Николаю мы не успели!
Во дворе рвался с цепи наш уличный сторож – пёс Рэмка, а это значило, что во двор входили чужие. Эти чужие с автоматами наперевес, прошли в наш сарай и стали стрелять в кур и уток.
…Дед наш выскочил из хаты, а мне приказал не высовываться!
– Что ж вы делаете? Зачем вам столько? Не пущу! – кричал он.
Его грубо оттолкнули всё те же люди в серой форме, припугнув автоматом. Они погрузили наших кур и уток, покидали поросят в кузов машины. Стали выводить корову. Зорька упиралась, но её больно стегали по бокам, тащили за рога, наконец, сломав ей один рог, добились желаемого.
Корова мычала, и от этого мычанья стали во весь голос плакать девчонки.
– Корову оставьте, корову не отдам! Кормилица ты наша! Внукам как без молока? Не отдам корову! Слышите, не отдам!! – слышали мы крики деда со двора, от этих криков кулаки мои сжались до боли. И мне так хотелось ему помочь… Но как? Мама крепко держала меня за руку, так крепко, что, казалось, сейчас оторвёт мне руку.
Потом вдруг услышали какой-то хлопок, затем кто-то споткнулся о поленицы дров и рассыпал их.
– Мамочка! Они будут тоже его бить, как бабу Феню! Отпусти меня! Отпусти! Может быть, он упал и не может подняться? Ведь кто-то же рассыпал во дворе дрова? – я умоляюще просил маму, но она всё так же крепко держала меня за руку.
– Нельзя, сынок! Не ходи! Дождёмся, пока они уйдут… Потом вместе с тобой пойдём и посмотрим. Девочки, перестаньте плакать! Тише! Тише, мои родные!
Во дворе протрещала автоматная очередь. Завыл и заскулил наш пёс так жалобно и неистово, что мама выпустила мою руку и прикрыла ладонями своё лицо. Я видел в окошко, как погрузили нашу корову в эту же машину и она, тронулась.
Когда стихли голоса, мы с мамой выбежали во двор, оставляя за плотно прикрытой дверью девчонок.
Дед Пахом лежал на поленицах дров. Он был тяжело ранен в живот. В курятнике не осталось никакой живности, он был пуст.
– Сашко, – как сквозь сон, услышал я голос мамы. – С кровати принеси простынь! Бегом, бегом! Да на деда не смотри, не смотри, милый!
Я не помню, как очутился снова возле матери, но зачем-то прихватил с собой простынь и две подушки.
– Сашко! – дед, увидев меня, обрадовано вскинул брови. – Ты…
Больше он ничего не успел сказать. Внутри у него что-то забулькало, захрипело, у губ появилась кровь, а глаза стали смотреть не на меня, а куда-то в одну точку.
– Папка, родненький! Не умирай! Не умирай! – закричала мама. – Прошу тебя, не умирай!!!
Она трясла его за плечи, отчего поленицы дров скатились деду на грудь.
– Что ты делаешь, мама? Ему же больно! – попытался я остановить маму и оттащить её руки от деда, но они так крепко держали его за плечи, что сделать было невозможно.
Она зашлась криком, от которого мне сделалось страшно. И я тоже заплакал.
– Мама! Мама! Тихо, не плачь, не надо! Девчонок напугаешь, – всхлипывал я.
Мама, откричав, зачем-то начала перевязывать уже мёртвого деда Пахома, а я побежал к скулящему Рэму.
Пёс лежал и ждал помощи. Ему прострелили ноги. Он скулил, а потом начал громко взвизгивать, когда увидел, что я к нему приближаюсь.
Обняв его, и прижав голову моего верного друга к себе, я не смог больше сдерживаться и разрыдался по-настоящему. Вернее и преданнее Рэма у меня не было друга. Собака, скуля и ища защиты, уткнулась мне своей мордой в ладони, тяжело и прерывисто дышала.
Мама, шатаясь, подошла ко мне.
– Что с ним, Сашко? Что с тобой, Рэмка? – обратилась она к псу.
– Мама, у него прострелены лапы! Давай забинтуем и перенесём в хату, – попросил я её.
– Нужно позвать дядю Трофима. Он у нас до войны, помнишь, козу вылечил? – смотря куда-то поверх нас, ответила мама.
Мы перебинтовали собаке лапы, как сумели и понесли в хату, но пёс оказался такой тяжёлый, что пришлось нам несколько раз отдыхать.
Собака немного затихла, уже не визжала, а стонала, глядя на нас своими умными коричневыми глазами.
– Терпи! Терпи! Не умирай! Не умирай, как дед Пахом! – уговаривал я собаку.
Мама опять заплакала и закричала:
– Изверги! Звери! Кто только вас породил? – запричитала она. – Будьте вы все прокляты!
К ночи многие из нашего села хоронили своих близких, тех, кто посмел оказать сопротивление «новым властям».
Дядя Трофим дал какое-то лекарство Рэму, тихо сказав при этом матери:
– Так будет лучше.
Собака сдохла. И мы похоронили Рэма в нашем яблоневом саду, где уже был один бугор – под ним лежал наш дед Пахом…
Я не плакал: жалел маму, а она жалела меня. Стояла в чёрном платке, закрыв ладонями лицо, прислонившись к яблоне, по стволу которой сочился сок, светлый, как слёзы.
О чем Первый день настоящей войны — Пономаренко Е.Г., краткое содержание
Первый день настоящей войны — Пономаренко про детей, у которых за год до войны умер отец. Потом наступила война, настоящая… Страшно стало с первого дня.